21-01-2006-30-07-2006
5. Период распространения земледелия. Циклическое
расширение.
(продолжение 3)
Поздний
Рим – христианство – черты неслучайного
Христианство
как религия порабощенных становится идеологией отчуждения и преодоления идеи
империи
Принуждение
власти своих противников к универсальной идеологии
Ценность
жизни человеческой - вершина христианской доктрины
Уравнительность
как возвращение к общинному земледелию под управлением государства
Поздний Рим – христианство – черты неслучайного
Христианство как религия порабощенных становится идеологией отчуждения и преодоления идеи империи
Поиски новой нравственности и даже нравственность любви граждан мира друг к другу демонстрируют Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий. Но эти философские результаты остались в высшей среде, в разлагающейся элите общества и не стали материалом для разделенного общества. Искомые средства обнаружились случайно и пришли с совершенно неожиданной стороны - снизу. Для Римской империи идеологией, разрешающей кризис полисной гражданственности, явилось христианство, о корнях которого мы можем увидеть несколько иные плоскости с учетом теории Маслоу.
Эскалация смерти, объема смерти рядом, внутри империи и вокруг нее впервые возникла в период гражданской войны в Риме (у подчиненных народов) и в свою очередь и как протест породила христианское учение о едином боге, призывающем к взаимной любви между людьми разных народностей, национальностей, любви, преодолевающей смерть. Оно выступило как учение о любви-подвиге и одновременно смерти ради простых смертных (здесь есть противопоставление героя и власти, есть подвиг и мужество, достойный почитания в обществе, построенном на насилии, и есть жертвенность, почитаемая в лучшей части того общества. Это обеспечивало преемственность общественного нового подвига от нравственности предшествующего полиса и ушедшего гражданского общества.
Но, кроме того, это вероучение было для того времени и для величайшей империи, и для человечества в целом воистину революционным. Оно утверждало идею единого мира разных народов не через подчинение и насилие, но через любовь, декларацию любви и терпимости. Это был не столько мир народов, сколько мир людей и личностей из разных народов, безотносительно национальности, помимо государства и даже его игнорируя. Но на этой системе, как оказалось, реально можно было теоретически построить и универсальность империи, хотя бы временно.
Среди множества конкурирующих в империи и среди народов ересей (ессеев и др.) идеи христианства с уравниванием тягот и имущества, идеи оказания добра, взаимопомощи и любви людям, униженным и обездоленным и ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, обещание счастья в ином мире за любовь, проявленную в этой трагической жизни, оказались наиболее востребованными для низших слоев общества – рабов и бедных бродяг, объединяющихся в экклесии.
Но только это не могло бы стать основой бурного распространения христианства во II-IV вв. н.э. По мнению ряда советских историков Е. М, Штаерман, Аверинцева С.С. (эта тема была «свободной» во второй половине XX-го века):
«население империи было не удовлетворено существующей идеологией, создававшей только безнадежность, и потому было готово к восприятию новых чаяний», [История древнего мира, кн. 3, с. 247]
В вакууме жизненных целей, в обстановке цинизма, роста коррупции, налогового гнета и принуждения к почитанию (силой) прежних богов – новая вера – христианство - формировала новую нравственность ухода от жестокости из плоскости реального мира, к возвышению над плотским миром, преодолению утрат материального бытия через реорганизацию ценностных или мотивационных доминант в направлении к личному и не материальному при минимуме удовлетворения материальных потребностей. Среди прижизненных установок христианство выделяет ЛЮБОВЬ и УВАЖЕНИЕ. В мире агрессии, резни, самой резкой статусной и материальной стратификации, увода из родовой и соседской общины ПРОЩЕНИЕ зла и ПРОЩЕНИЕ за зло являлось, вероятно, необычной и одновременно эффективной в тех условиях формой стабилизации психики в условиях непрерывного насилия, крови, стресса, страха.
Как говорит Тойнби:
«Насильственная миграция способствовала распространению в Греко-римском мире восточных религий. Эти религии с их обещанием потустороннего личного спасения, находили благодатную почву в опустошенных душах потерпевшего поражение «господствующего меньшинства», [Тойнби А., с. 37].
Как мы знаем, этот «железный» период начался не менее, чем тысячу лет назад, а более или менее определенно завершился в первом и единственном месте этого региона (Евразии) не ранее, чем еще через тысячу лет (Северо-запад Европы). Потому христианство, суммируя непрерывное насилие в обществе и выработав «посильное» для личности спасительное психологическое решение, частично опередила потребности стабилизации мироощущения на целое тысячелетие – на самый черный период существования полуцивилизованного человечества – будущий распад ведущего центра земледелия – Средиземноморья – и следующее за ним Темное Средневековье.
Или иначе, система поведения и реагирования, именуемая христианством, явилась спасением психики и, следовательно, жизни многих миллионов людей, освоивших ее, и именно потому она и стала популярной, широко распространилась в силу этих своих свойств. С другой стороны, такое возвышение христианства в период Империи и поздней Империи явилось одновременно и теоретизированной или идеологической формой отчуждения от плотского мира, о котором говорилось ранее в обсуждении цикла развития иерархии труда, господствующей в хозяйственной сфере.
Но, распространившись в Империи, христианство послужило и государственным имперским целям, став одновременно и на длительный период, цементирующим политическим фактором. Этот скрепляющий фактор отразил реальные процессы выравнивания уровня культуры цивилизационного сообщества и канализировал их в терпимость и продолжение приемлемого сосуществования. Последнее (терпимость) оказалось возможным через преобразование неудовлетворенной потребности в уважении в удовлетворение внутренней потребности самоуважения и самопризнания в условиях внешнего и реального подавления и часто распада личности.
Христианство непроизвольно явилось новым словом как вселенская идеология, обоснование совместного сосуществования народов с аргументацией к философским и светским причинам. Она становится важнейшим фактором сохранения целостности империи. Выход из империи становится менее актуальным. Межнациональная толерантность народов, соединенных силой, и не имеющих в тот момент возможности к сепарации, отделению, получению суверенитета (варварский мир готов полностью поглотить уже возникшиее цивилизованное бытие) образуется через общую религию:
«Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе», [Новый завет. Послание к галатам, гл. 3, ст. 28].
или
«Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» [Новый завет. Послание к колоссянам, гл. 3, ст. 11][1].
Христианство как модель «выравнивания в душе» - разрешение конфликта ведущих потребностей по Маслоу в антагонистическом обществе
Если обобщать воздействие христианства на общество, слои которого разделены противостоянием различных (антагонистически различных) уровней не удовлетворенных потребностей , то христианство оказывается историческим социальным компромиссом разрешения такого антагонизма.
Действительно, ведущим уровнем неудовлетворенных потребностей основной части общества того времени – земледельцев и рабов в Римской империи – является неудовлетворенность потребностей в безопасности II, а зачастую и безопасности I. Но это противостояние можно продолжить на два тысячелетие социального развития вплоть до настоящего времени.
Высшие слои общества, реализующие властные полномочия, озабоченные борьбой за власть, имеют проблемы уровня потребности во власти, более общо, потребности в уважении или потребности в безопасности III.
Внутренняя агрессия как внутри близких по социальному уровню слоев или между различными уровнями, т.е. классовая борьба, может резко ослабеть, если члены общества выводятся на уровень потребности в общении и любви, см. рис. 19.
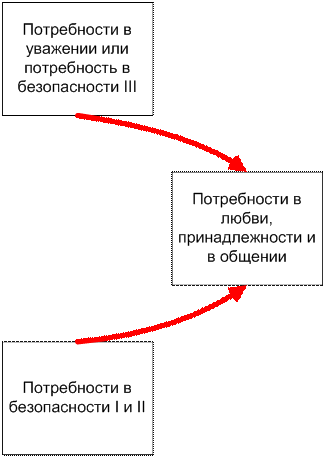
Рис 19. Модификация уровня удовлетворенности потребностей христианством. Выравнивание уровней удовлетворения потребностей через акцентуацию любви
Как обстояло дело с идеологией классового неравенства в Риме до христианства. По теории Сенеки рабы соединены с господином уже тем, что могут есть с его стола и тем самым быть его «сотрапезником». Духовное превосходство господина обеспечивается завистью раба к богатству и знатности, слабой надеждой приблизиться к лону власти, услужить ей.
Христианство дает иное решение. Но заметим, это христианское решение распространяется в обществе в момент полной девальвации имперской власти как успеха и могущества, в момент полной девальвации богатства и имущества и при необеспеченности такого богатства со стороны власти.
«Пока раб завидует богатым и знатным, авторитет богатства и знатности остается непоколебимым. Когда раб, будь то раб – философ Эпиктет, создавший на базе стоицизма, философию морального сопротивления, или раб-христианин, отваживается соболезновать богатым и знатным и скорбеть об их духовном помрачении, – с авторитетом богатства и знатности покончено, по крайней мере внутрисознания индивида.», [История Древнего мира, кн. 3, с.249-250].
Действительно, Новый завет поднимает бедность и униженность в ранг святости и близости к Б-гу, не поощряя насилие в борьбе за уравнительность. С другой стороны, он вменяет всем сословиям и классам заботиться друг о друге, раздавать богатство, причем добровольно, а не на принудительной основе, тем самым, христианство не пугает властные классы утратой ресурсов. Разделение труда сохраняется. Понятие «совести» как добровольного осознания взаимозависимости людей и необходимости учета этой связи посредством системного распределения ресурсов или хотя бы некоторой части этого ресурса в направлении к выравниванию неравенства – это тоже порождение христианства. Такое перераспределение оказывается вмененным в «совесть» человека в отличие от аналогичного поведения и «воли или гнева» Богов или Бога (справедливого распределения власти и силы по заслугам или грехам – проступкам людей) в предшествующих религиях, включая и иудаизм.
Осознания взаимозависимости и системности, целостности разделения труда – это уже духовное или рефлексивное перераспределение ценности существования – это выравнивание значимости и самоуважения участвующих в разделении сторон. Это и частичное решение проблемы разделения труда, о которой мы говорили. Христианство – это выравнивание в душах, особенно подъем души в нищете, точнее, возможность такого духовного возвышения, поскольку часто такой подъем по недостатку душевной культуры вульгаризируется. Христианство – это и понижение самоуважения богатства – это учение о совести, формирование совестности, блага помощи и заботы о страждущих.
Мы еще раз обращаем внимание читателя на связанность обеих групп или социальных классов общей структурой – иерархией труда, которая в данном обсуждении рассматривается как империя.
Мы должны осознавать и ощущать трагизм того времени. Связанные имперским обществом социальные группы не могут физически оставить друг друга, как это гипотетически могло иметь место в цивилизациях с практически пустой периферией (Мохенджо-даро – Хараппа, или в цивилизации Центральной Америки, с населением, ушедшим из центра на новые места обработки, на Юкатан).
Периферия имперского мира в этот исторический период уже насыщена, полна террора и насилия «над чужаками» и, следовательно, еще более опасна для жителя империи. Ужас варварского мира по сравнению с комфортом видимого порядка римской цивилизации и … ужас цивилизации в ощущении, понимании ее распада…никакого просвета и надежды на перспективу, никакого образца лучшего, кроме воспоминаний о героическом прошлом… «Мир погибал, а моя жена все наряжалась» - вот видение примерно того же порядка ситуации каким-то философом Византии.
И потому все слои того общества, «скованные одной цепью», пытаются найти уравновешенный сбалансированный характер социальных отношений, и их поиск согласия формирует новую мировоззренческую структуру, продлевающую, в конечном счете, жизнь империи.
Итак, христианство – это широкая общественная рефлексия, возможно и очень вероятно, одна из первых в истории человечества.
Решило ли христианство как социальное отражение имперскую общественную проблему? Спасло ли оно жизнь империи?
В этом отношении в истории всегда существует лишь два пути, о которых лучше всего сказал Арнольд Тойнби, и мы знаем – его 12-ти томный труд дает основания для общих выводов:
Существует два способа взметнуть пыль на площадях и на
исторической арене: это путь насилия и путь добра...насилие в конце концов
уничтожило самое себя. История выбирает доброту.
Однако доброта пробивает себе дорогу медленно, [Тойнби А., с.349].
Отчуждение общества (или его основных слоев – пролетариата) от имперского государства – это по Тойнби «уход», а не борьба.
«Доброта – это подлинное выражение воли пролетариата отделиться», [Тойнби А., с. 349].
Однако, возможно, Тойнби прав только В КОНЕЧНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ СЧЕТЕ (но в этом мы с ним согласны безусловно). Мы дополняем его модель некоторым комментарием.
Сам механизм взвешивания альтернатив: можно или нельзя применить силу против деспотизма империи – является вероятностным механизмом формирования общественных движений. И мы обязаны спуститься к корням – рядовому человеку. Традиция подчиняться – это мотивация на подчинение или на «избегание неудач» по Маклелланду, о которых мы уже говорили в свете теории Маслоу, и часто уже приобретенная ментальность. Материальное основание – это практика гибельности сопротивления имперским силам. Поэтому «уход» - это обобщенное отношение и обобщенный прогноз к перспективам столкновения с властью, перспективам, отрицательным для инициаторов.
Наоборот, борьба, как мы знаем, даже если она приводит к успеху, создает новые активные силы и социальные институты, как правило, или часто, при успехе – возникает новая активная государственность, которая вступает в немедленную полосу исторических столкновений и завоеваний. И в этом смысле – это часто более трагический и гибельный путь!
В каком смысле? В смысле растраты человеческих жизней и культуры, в смысле повторного и многократного сокращения численности населения и потому плотности населения в регионе. Такая рефлексия, прослеживание последствий, конечно, уже недоступна логике «уходящих», «уступающих» и «движимых любовью и прощением». Но подсознательно такой исход ощущает большинство. «Доброта спасет мир» (или «красота», если доброту понимать как гармонию), если количество людей и плотность их общения возрастает (аргументы позже, см. раздел феодализма).
Второй аргумент против локального насилия в империи. Для империй существует достаточно определенная ситуация, в которой центральная или титульная часть общества «загашена» империей, привыкла к повиновению, а недавно присоединенные регионы, еще обладают потенциалом творчества и внутренней свободы. Окраины Римской империи включали и борьбу имперской власти с варварами, и борьбу с малыми народами, уже имевшими государственность, но еще не прошедшими школу собственного имперского владычества. К таким и относился народ Иудеи и Израиля. Он уже осуществил несколько тщетных попыток силового освобождения, он уже оформил свой уход от эллинизма (фарисеи – это «те, которые отделяются»), [Тойнби А., с. 349]. Но империя так велика, что малые активные народы периферии не могут привести в движение обычно гигантский многонациональный айсберг – для времен информационных связей того уровня – это вполне определенно. Отсюда и дополнительный аргумент к бессилию и выбору «доброты» и «ухода» как лучшего решения.
Итак, христианство или более широко любовь, толерантность, терпимость и милосердие – или, то же самое, пониженная агрессивность, воспитанная как культура, есть посильное сохранение генофонда вплоть до естественного внутреннего разложения, вырождения и гибели имперской государственной структуры.
Истинное христианство не спасло ту империю, не строит империи и не спасает их – оно спасает жизнь людей и народов. И как мы покажем далее (не ограничиваясь чужими аналогичными выводами общего плана), это и есть путь ускорения социального прогресса
Выравнивание на деле
Выравнивание материальное – это, пожалуй, единственное, как говорят историки, что объективно положительно делала церковь
«Лишь по одному из главных вопросов учение церкви оказывалось влиятельным и эффективным, а именно относительно благотворительности в значении выделения денег на достойные цели. В идеале язычников богатый человек выделял пособия определенному кругу клиентов, которые оказывали ему и выборочно его соотечественникам quid pro quo разнообразные услуги…(Христианская) Церковь всегда призывала всех, независимо от имеющихся средств, оказывать поддержку бедным и беспомощным, и призыв этот находил отклик в сердце каждого…. Все классы, хотя и в незначительной степени, но занимались благотворительностью, упоминая церковь в своих завещаниях…определенные средства отводились на поддержание детей-сирот, вдов, престарелых, больных, заслуживающих этого бедняков и бродяг, а также на выкуп военнопленных (римлян). Все это были сферы социальной работы, почти полностью пренебрегаемые правительством и старой языческой аристократией. Юлиан был весьма поражен превосходством христиан над язычниками в этом деле…Хотя церковь очень много делала, чтобы облегчить участь бедноты, она никогда не подвергала сомнению устои социальной системы в целом…[Джонс А. Х., с.489-490].
Во всем остальном мы можем говорить только о выравнивании среди населения все возрастающего налогообложения.
Позже мы вернемся к теме равенства в Империи на примере столиц, городов, культуры и т.п.
Принуждение власти своих противников к универсальной идеологии
Власть империи, освоившая ценность универсальной идеологии, старается силой ввести ее среди населения. Так произошло в Римской империи. К чести самой церкви и к удивлению читателей, воспитанных и текущим историческим опытом ПОЗДНЕЙ (или БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ) православной церкви, первая ортодоксальная христианская церковь стояла почти на анархистских позициях.
В глазах церкви государственная служба представляла собой самое уважаемое занятие для мирян. Но не для христиан. Последние фактически рассматривали ее как грязное дело…Городской Совет Арля угрожал верующим, претендующим на пост губернатора, изгнанием из епархии (церковной общины), если они будут назначены на пост и начнут нарушать законы церкви.
Павлин из Нолы призывал своих друзей – чиновников оставить службу:
«Вы не можете служить двум хозяевам, один, из которых Бог, а другой мамон, другими словами Христос и Цезарь» [Джонс А. Х., с. 491-492].
Один из римских пап в IV веке заявил: «Очевидно, что те, кто держит в руках светскую власть и управляет светским правосудием, не могут освободиться от греха» [Джонс А. Х., с. 492].
Это касается самих церковнослужителей и самых истовых христиан. Но не так обстоит дела с власть предержащими и неискушенными толпами простых верующих. Кстати сама церковь не занималась церковным образованием.
Для Рима переход от язычества к христианству не был революцией. В 312 г., когда Константин был крещен, христиане были в незначительном меньшинстве, а в 610 г., когда умер император Фока, – в меньшинстве были язычники. Высшая римская аристократия не принимала христианства до начала V-го века. Пионерами стали бедные горожане, которые постепенно росли и начинали влиять на аристократию. Армия как государственный институт меняла язычество на христианство, потом (при Юлиане) снова на язычество, потом обратно при Валентиниане и Валенте., [Джонс А. Х., 467]. Крестьяне , наоборот, как и всегда, были консерваторами до конца. Были и контрасты. Рядом (Африка, Месопотамия) сосуществовали города полностью христианские и полностью языческие, оставшиеся такими до прихода арабов. Довольно поздно и после колебаний маятника христианизация пошла от светской власти. Язычников стали ограничивать в правах (снятие с правительственных постов, начало V-го века, запрет юридической карьеры и преподавания). В 529 году Юстиниан приказал остаткам язычников креститься под угрозой конфискации и высылки. [Джонс А. Х., с.467-469].
Язычество было не столько религией, сколько пантеоном богов и набором традиций десятков племен и народов. Более того, оно не имело развитых языческих религиозных организаций. Далее, оно сложилось в идеологии терпимости по причине безразличия завоевателей и длительности самого процесса завоевания. И потому оно получило традицию толерантности - язычество не отстаивало свои религиозные формы, оно не стало героической религией, хотя и «вело против христианства упорный оборонительный бой» [Джонс А. Х., с. 471].
Очень интересно отметить мотивацию христианизируемых народных масс в своей неискушенной части – это волнения в связи с теологическими спорами, условно борьба с «врагами веры, прикидывающимися христианами». Борьба с еретическими группами – конкурентными ересями в христианстве – приводили к жарким столкновениям, вплоть до массовых военных действий и даже похищений религиозных соперников, разрушении ферм и домов – погромы. Истинный накал страстей лежал, как объясняет [Джонс А. Х., сс. 474-475] в том, что «вокруг религии сосредоточивался главный интерес данной эпохи и что истинная или неистинная вера влекла за собой не только спасение или проклятие отдельной личности, но и процветание или бедствие для всей империи. И вот уже епископ Константинопольский Несторий (в сане 428-431) обращается к императору Феодосию II Восточному (у власти 408-450) «Даруйте мне землю, очищенную от еретиков, Ваше Величество, и я дарую Вам в обмен небеса. Подчините мне еретиков, и я подчиню Вам персов».
Но существуют примеры, которые отмечают слабо пробивающуюся закономерность. Единственная религия, которая была и осталась не размытой в процессе слияния народов Запада и Востока в Риме – иудаизм – оказался оселком для распространения христианства. Иудеи и самаритяне были единственным религиозным меньшинством, которое не собиралось растворяться в христианстве, но что еще более важно для империи, постоянно и последовательно своим примером покушались на ее, Империи, «целостность».
«При Цезаре Галле (351-354) вспыхнул мятеж в Галилее, в 451 г. разразился бунт самаритян, в 529 г. после захвата синагоги развернулось более крупное восстание, а ближе к концу правления Юстиниана неспокойствие проявили и иудеи, и самаритяне. Иудеи Неаполя поддержали сопротивление, оказываемое городом Велизарию (знаменитый полководец Византии – авт.), а восточные иудеи приветствовали персидских захватчиков при Фоке и Ираклии, а также радовались первым победам арабов», [Джонс А. Х., с. 497-498].
Вот почему, предполагая в вере причину сепаратизма,
«Ираклий приказал всем иудеям империи пройти обряд крещения», [Джонс А. Х., с. 497].
Таким образом, идеологическая целостность, целостность сознания общества рассматривалась уже тогда как необходимое условие сохранения и безопасности империи (власти). Идея, как мы понимаем и как показали здесь, столь же недостижимая, сколь и опасная для гибкой устойчивости самой империи – когда желаемая прочность, отрицая гибкость, модифицируется в хрупкость.
Мы можем подтвердить аналогичные процессы историей позднего периода в Османской империи и в России после 1917 г., когда бывшая «тюрьма народов» (по определению Ленина) стала бороться с «буржуазными националистами», потому, конечно, что они «буржуазные». Для социалистических националистов нашлась 10-я армия, которая вошла в меньшевистскую Грузию (как же именовать социалистов, не желающих стать частью РСФРСР – только «меньшевиками»). Но и позже, уже поставив во главе Грузии большевиков, ВКП(б) вынуждена послать в Тбилиси делегацию, которая кулаками наводила порядок в КЦ компартии Грузии и так, что в дело вмешивается больной Ленин, пытаясь ограничить опасный для «Союза» произвол Сталина и Орджоникидзе.
Ценность жизни человеческой - вершина христианской доктрины
Христианские нормы и нравы были суровы. На фоне остатков языческих свобод, наполненных цинизмом «пира во время чумы», христианство чрезвычайно щепетильно относилось к спасению жизни человека. «Очень сурово толковалось убийство». Церковь в крайних своих проявлениях выходила и на пацифизм. «Отдельные аскетические моралисты, такие как Василий, утверждали, что солдат в бою, лишивший жизни врага, является убийцей», [Джонс А. Х., с. 480]. У нас имеются самые реальные основания считать, что именно пацифизм христианства, опасный для формирования воинской доблести римлян, был реальным основанием для борьбы государственной власти против новой ереси.
Уравнительность как возвращение к общинному земледелию под управлением государства
Стремление к обеспечению единства империи не отрицает, но в высшем своем проявлении приводит к максимально возможной уравнительности, как ее понимает община, и идея общины. Идея общины, лежащая в основе войны и совместного действия должна становиться актуальной снова и снова в момент роста угрозы, поскольку народ-община, обеспечивает безопасность земледельца в страшное время конкуренции этносов-общин за землю и за свободу существования.
Но в процессе завоевания и обогащения земледельческая община сама уже разрушается и не может выполнять свойственных ей функций защиты члена общины. В ней выделяются личность, богач и крепкий хозяин. Потом и позже возникает и господствует империя и ее аппарат. Сначала им, а в последующем только государству как ведущей политической и хозяйственной силе (ее представителям как классу), оказывается присущ интерес или потребность в сохранении целостности системы. В более общем плане об этом говорят Берталанфи, а в социологии Талкотт Парсонс. Однако в отличие от Парсонса мы говорим не об «интересе системы» к выживанию, а об интересе конкретных чиновников высшего уровня, в совокупности правящей ЭЛИТЫ к разрешению проблем стабильности управляемой ими (ею) системы. Поэтому внутренний динамический механизм в системе реализуется в социальном через иерархию потребностей Маслоу, которые «работают» в контексте систем на уровнях потребностей безопасности, уважения, и творчества (элиты) при взаимодействии высших и низших классов.
Итак, об интересе элиты в сохранении целостности. Этот интерес обращает внимание элиты к формам идеологии, культивирующим каким-либо образом опасно ускользающее единство общества.
С учетом восстановления или надежд на восстановление целостности, христианство оказалось единственным идеологическим средством, которое снимало хоть в какой-то мере утраченное ощущение единства.
Христианство и здесь предоставляет проект социальной гармонии – совместное имущественное проживание без твердых разделов и границ – «по любви». Оно являет новую модель – неравенство уже есть, и оно признается. Но идеология предлагает добровольное уравнивание, ориентируясь и поднимаясь над общиной, которой уже нет, но, формируя эту общество не силой, а индивидуальной совестью-любовью. Социальная мечта бедного о том, что богатый должен делиться, что люди равны, относится и к народам и их сравнению, тем самым становится также нравственной скрепой и социального мира в межнациональных, межплеменных, межродовых отношениях в Империи. Беречь жизнь (христианина) оказывается нравственным долгом и уже вне связи с национальностью. Потому мечта об универсальном государстве в христианстве реализуется в ее наиболее достижимой и устойчивой (и от этого не более стабильной, но более психологически терпимой) форме, насколько это позволяет представленная выше социальная динамика будущего разложения.
То, что делается в части идеологии («скоро сказка сказывается…»), в области уравнительной социальной политики образует вовсе не тот результат, который ожидает власть.
Государственные намерения по снижению социальной напряженности постепенно создают аппарат и его практику. Потребитель социальных благ – наблюдаемый в столице изгой империи – люмпен – крестьянин, лишившийся волей или не волей своего хозяйства и профессии (солдат) с появлением системы льгот постепенно дрейфует в сторону иждивенчества, особенно в крупных городах.
Мы считаем важным упомянуть социальные механизмы, льготы и экономические решения имперских правительств Рима, которые постепенно возникают в Римской империи. При этом мы используем данные по истории Позднего Рима А. Х. М. Джонса. Этот материал мы, постепенно его обобщая, как мы считаем, непротиворечиво «приводим» к схеме циклической модификации иерархической структуры, монопольной в хозяйстве.